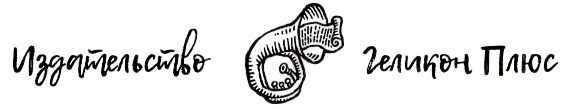Александр Житинский "Фигня (53)
"

| Автор | Александр Житинский |
| Изд-во | Геликон Плюс |
Вечером в народной деревне была устроена официальная церемония чаепития в честь прибывших гостей.
Торжество происходило в избе-читальне, поразившей Бикова обилием и качеством книг. Брокгауз и Ефрон в старом издании, полная библиотека Сойкина, прижизненные публикации Пушкина и Толстого, не говоря о современных книгах. Наиболее полно была представлена русская философия — от протопопа Аввакума и Чаадаева до Николая Федорова и Лосева.
Сама изба-читальня являла собой вполне современную постройку, в которой черты русского стиля использовались лишь в качестве декора: петушок на коньке крыши да резные ставенки на окнах.
Внутри находились три зала — читальный, конференц-зал и компьютерный.
Увидев новенькие «Макинтоши», оснащенные принтерами и сканерами, Биков заплакал.
— Ну просто спасу нет! — растроганно выругался он. — Мы у себя в редакции два года просим... Я в «Лексиконе» работаю! — вдруг агрессивно и малопонятно воскликнул он, и тут же к нему подскочил официант с подносом, на котором стояли дымящиеся чашечки чая.
Биков выпил и присмирел.
Объяснения новоприбывшим, которые на этот раз были в полном составе, включая министра по особым поручениям, давал староста народной деревни Олег Григорьевич Брусилов — как позже выяснилось, заслуженный артист республики, бывший баритон Мариинки и по совместительству известный целитель-травник. А также внук знаменитого генерала, героя первой мировой.
Он был комплекции канцлера Коля — такой же осанистый, источающий мощь и доброжелательность.
— «Маки» нам поставила фирма «Эппл» по просьбе Якова Вениаминовича, — объяснял он плохо понимавшим женщинам. — Теперь мы в Интернете, смотрим Россию он-лайн.
Ольга и Исидора кивали с глубокомысленным выражением на лицах. Биков же так часто поминал Спасителя, что просто-таки удивлял своею набожностью.
Максим задержался в читальном зале и со страстью бывшего литературоведа перелистывал антикварные издания.
Зал между тем наполнялся местной интеллигенцией, хотя это слово вряд ли было уместно в деревне, где все были интеллигентами. Публика была одета по моде начала века: стоячие воротнички у мужчин, широкие длинные платья у женщин. Официанты разносили на подносиках чай, как бы аперитив к предстоящему генеральному чаепитию. Как потом объяснили, градус просветленности был у него пониже, чем у основного напитка, который уже готовили к подаче за огромным овальной формы столом, стоявшим посреди конференц-зала.
Наконец канцлер, то есть староста, пригласил всех к столу. Сам сел во главе на резном стуле, отдаленно напоминавшем трон; по правую руку от него уселся отец Василий в рясе, а по левую — субтильный господин с усиками, смокинг на котором странно топорщился, будто был с чужого плеча. Это был Антон Муравчик, временный представитель Президента в народной деревне, министр по чрезвычайным ситуациям.
Все представители Президента в деревне были временными и назначались на месяц, пока действовал срок антиалкогольной кодировки.
Больше чем на месяц ни одного министра закодировать не удалось — проверено практикой, — а то, что ситуация действительно была чрезвычайной, не более чем совпадение.
Гостей рассадили порознь, между хозяев. Биков сам выбрал соседку — роскошную молодую женщину с распущенными по спине волосами, незамужнюю художницу-анималистку, как он предварительно выяснил. Ее открытые плечи и полуоткрытая грудь чрезвычайно взволновали Бикова. Она так увлеченно рассказывала ему в паузах о кошечках и гамадрилах, которых она рисует, что Биков тут же влюбился, причем, благодаря чаю, влюбился возвышенно и крепко.
Пенкина устроилась с диктофоном неподалеку от начальства, за нею ухаживал офицер в морской форме — списанный из подводного флота за увлечение уфологией капитан-лейтенант. Исидору окружали двое лиц кавказской национальности из Кабардино-Балкарии, бывшие танцоры кабардинки и балкарки, ныне лучшие чаеводы Касальянки.
Внесли дымящиеся самовары и водрузили на стол вместе с заварными фарфоровыми чайничками. Разнесшийся по залу аромат, подобно фимиаму, настроил всех на ностальгическую ноту.
— Начнем, господа, — объявил Брусилов, поднимая чашку с чаем. — Я хотел бы выпить эту чашечку «фигни» за наших гостей из России. Фиг с ними и фиг с нами!
— Фиг с ними и фиг с нами! — повторил отец Василий, тоже поднимая чашку.
— Ни фига себе... — пробормотал удивленный этим тостом Биков.
Все чинно выпили.
— По просьбе гостей я расскажу немного о нашей колонии, — продолжал бывший баритон, увидев, что Пенкина настроила свой диктофон. — Нас пока немного, меньше тысячи выходцев из России, но я смею утверждать, что здесь собрались лучшие, духовные ее представители. Мы верим, что отсюда начнется ее возрождение...
И далее он рассказал об основах государственности Касальянки, введенных Пересом в качестве модели для будущей России. Эта государственность покоилась на отделении власти от народа. Контакты между ними были сведены к минимуму. Многокилометровые заросли сельвы отделяли народную деревню от правительственной. Политика в народе была объявлена вне закона. Никто никого не избирал и не мог быть избранным. Член общества, под любым предлогом пожелавший власти — даже ради высоких целей — тут же изгонялся из деревни.
— Правда, пока нашелся только один такой, — сказал Брусилов. — Некто Платон Молочаев, двойной диссидент.
— Почему двойной? — спросила Ольга.
— Потому что он враждует и с правительством, и с народом.
Между народом и правительством существовали простые товарные отношения. Каждый член колонии выращивал «фигню», занимался на свой вкус селекцией и сдавал продукт на приемный пункт представителю Президента, за что получал нужные ему товары — от строительных материалов, мебели и одежды до продуктов питания.
Курс «фигни» по отношению к бабкам, имеющим хождение в правительственной деревне, регулировался Президентом. В настоящее время за сто граммов «фигни» можно было получить товара на пятьсот семьдесят бабок.
В свободное от возделывания плантаций время жители Касальянки занимались исключительно трудами духовными: писали стихи и симфонии, изучали небесные объекты, в том числе и неопознанные, издавали малыми тиражами газеты и журналы, ставили спектакли, снимали фильмы, но более всего изучали историю России и философию.
Никто из них не знал, сколько и каких министерств существует в республике, каким образом меняется правительство и что вообще происходит в коридорах власти. Они имели самое смутное представление об этих коридорах.
— Вы не представляете, насколько это экономит духовную энергию народа! — сказал Брусилов.
К этому моменту уже было выпито по три чашки «фигни», поэтому даже политизированный Биков согласился.
— Но зачем же в таком случае государство? — подал голос молчавший дотоле Максим.
— Связь с внешним миром, торговля, международные отношения. Точнее, внешняя политика, потому что по культуре мы контактируем сами...
— Я что-то не понимаю... — упорствовал Максим.
Он, как и положено министру, чая не пил, грыз сухари с корицей, запивая их минералкой. Потому проявлял неуступчивость.
— Не понимаете? — Брусилов сделал знак, и официант включил телевизор, укрепленный высоко на кронштейне.
Экран вспыхнул, и присутствовавшие увидели, что идет программа «Сегодня».
Татьяна Миткова с присущим ей обаянием перечисляла случившиеся за день ужасы. Показывали разрушенные кварталы Грозного, трупы солдат, плачущих беженцев. Потом перешли на криминальную хронику. День выдался обычный: убили управляющего банком в Новгороде и взорвали аэровокзал в Махачкале. Потом долго показывали, как в Питере на Дворцовой два митинга мутузят друг друга с обоюдными выкриками «Фашисты!», а ОМОН их растаскивает.
— Таким выдался сегодняшний день. Я желаю вам всего хорошего, — объявила дикторша и исчезла.
Минуту за столом царило подавленное молчание. Его наконец прервал Брусилов.
— Если бы в России, да и везде, власть была бы отделена от народа, то господа политики делали бы все это сами. Бомбили, убивали, взрывали друг друга. Но они предпочитают делать это руками народа.
— Так что же — народ глуп? — спросил Максим.
— Нет. Народ доверчив и взволнован. Он принимает все близко к сердцу — призывы, лозунги, обвинения, угрозы, которые обрушивают на него политики. А надо, чтобы все было по фигу.
— Так это же пофигизм! — воскликнул Биков. — Социальная апатия.
Все за столом заулыбались, кивая.
— Вот именно, мой дорогой! Пофигизм — это молодость мира! Таков наш неофициальный лозунг, — улыбнулся Брусилов. — И чем скорее наша «фигня» дойдет до России, тем будет лучше для страны.
Исидора слушала диалог с напряженным вниманием, стараясь ухватить суть дела. И хотя выпила много чаю, заметно волновалась. Кабардино-балкарцы, впрочем, принимали это на свой счет.
— Я понимаю, «фигния» есть дойти до Россия сейчас? — с трудом подбирая слова, спросила донья.
— Точно так, мадемуазель, — ответил Брусилов.
Донья задумалась, что-то прикидывая в уме.
Начальник генерального штаба обеспокоенно посмотрел на нее. Вероятно, донья что-то замышляет. Но что? После «Большого каскада» он относился к донье с опаской. Подозревал в коварстве, и не зря.
Официальная часть церемонии кончилась тем, что отец Василий представил Бикова в качестве автора нового канонического русского мата и роздал присутствующим ксерокопии. Интеллигенты поаплодировали. Биков раскланялся.
Вообще аборигены были настроены благодушно. Напившись «фигни», они принялись читать стихи, петь и танцевать. Все были довольны друг другом, далеким правительством и общественным строем. Это выгодно отличало местную интеллигенцию от собратьев на всех континентах.
Анималистка, которую, как выяснил Биков, звали Римма, продемонстрировала маленькую выставку картин. Это были, с одной стороны, симпатичные сусальные кошечки, повязанные разноцветными бантами, с другой — омерзительные клыкастые гамадрилы, сиявшие потертыми красными задницами. Выставка почему-то называлась «Инь и Янь». Биков призадумался.
Наконец культурная часть была окончена, и собравшиеся вновь окружили стол.
Официанты внесли на подносах крохотные чашечки с особой, чрезвычайно сильной и дорогой «фигней», источавшей необыкновенный, пряный запах.
— Господа, финальный тост! — провозгласил Брусилов. — За любовь, господа, во всех ее проявлениях!
Все дружно выпили, прикрыв глаза, и воспарили настолько, что, кажется, оторвались от пола и секунду-другую повисели над паркетом, как марионетки в кукольном театре.
Ольга вдруг почувствовала непосредственную телепатическую связь с возлюбленным. Она увидела мысленным взором, что Иван сидит в какой-то пещере и пьет из стакана темно-коричневую жидкость, похожую на «фигню». Но при этом морщится.
Исидора, вероятно, тоже увидела бы Вадима, если бы не кабардино-балкарцы, которые, воспарив, с двух сторон подлетели к ней, как небесные ангелы с усиками, и принялись что-то жарко шептать — один по-кабардински, другой по-балкарски. Исидора обоих отлично понимала, но сделать для них ничего не могла. У нее уже были другие планы.
Не воспарил один Максим. Он понуро стоял у стола, сняв генеральскую фуражку и вытирая беретом пот со лба. «Не промок бы чек...» — с тоской подумал он, глядя на влажный берет. Чек мог скоро понадобиться, ибо после объяснений Брусилова у Максима созрел собственный план действий.
А собравшиеся, допив эликсир любви, взялись за руки, окружив стол живым кольцом, и Брусилов затянул красивым баритоном:
Пока земля еще вертится,
Пока еще ярок свет,
Господи, дай же ты каждому,
Чего у него нет.
Все дружно и с готовностью подхватили ритуальный гимн народной деревни:
Умному дай голову,
Трусливому дай коня,
Дай счастливому денег
И не забудь про меня!
«Голову — Пересу, Вадиму — коня, — переводила про себя донья, — Ивану — денег, но не все... — ведь и про меня нужно не забыть!»