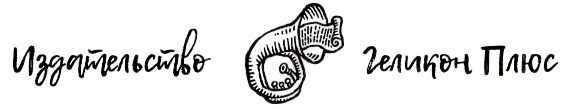а.ж. "Ночь.Полустанок.Ноябрь.
Рассказ
"
| Автор | а.ж. |
| Изд-во | геликон |
Ночь. Полустанок. Ноябрь
Историческая быль
Иной раз страница старой книги принесет некое видение, от которого никак не избавиться, картину далекого прошлого, в которой сошлись чужие жизни и судьбы и которая почему-то волнует, хотя эти жизни и эти судьбы давно уже стали достоянием вечности, о них написаны книги, сняты фильмы и, кажется, даже из них извлечены уроки...
Впрочем, последнее вряд ли.
Представим себе холодную ноябрьскую ночь где-то в центре России, в начале прошлого века, точнее в 1910-м году. Зябко, мокрый снег падает, перечеркивая мутное небо, вокруг глушь да стынь на много верст, и только светится окошко небольшого особняка близ железнодорожной станции.
Двор особняка огражден забором из черного мокрого штакетника, и у этого забора, вне двора, мы видим пожилую грузную женщину, которая вглядывается в светящееся окошко, нервно ходит вдоль забора, пытаясь согреть озябшие ладони дыханием, снова останавливается и смотрит... В ее взгляде бессилье, ужас, тоска. Она должна быть там, в доме, но вход туда для нее закрыт.
Это графиня Софья Андреевна Толстая.
А в особняке со светящимся окошком умирает ее муж граф Лев Николаевич Толстой, с которым она прожила 48 лет и родила ему тринадцать детей, многие из которых умерли во младенчестве.
И ее не пускают к нему проститься ее же дочери — Александра и Татьяна.
Она некрасивая, старая, больная, подозрительная, истеричная временами — как не похожа она на восемнадцатилетнюю Сонечку Берс, дочь врача, которая влюбилась во взрослого уже Льва Николаевича и отдала ему всю свою жизнь.
Потому что любила.
И осталась в истории литературы как пример верной жены, так и не понявшей своего великого мужа.
И осталась в фольклоре строчками издевательской песенки:
Писатель ты наш знаменитый
Лев Николаевич Толстой!
Ни рыбы, ни мяса не кушал,
Ходил по аллеям босой.
Жена его Софья Толстая,
Напротив, любила поесть.
Она не ходила босая,
Хранила дворянскую честь.
А совсем недалеко, в помещении вокзала на деревянной отполированной скамье томится игумен Варсонофий в рясе, три дня как приехавший сюда из Козельска, чтобы причастить великого графа, но вот беда — и его не пускают к умирающему.
И он спит сидя, спрятав ладони в длинные рукава рясы и клонясь все ниже и ниже, потом рывком просыпается, глядит кругом себя непонимающим взглядом — где он? зачем тут? — и снова задремывает.
Две жертвы любви — к женщине и Богу, одна намеренная, другая нечаянная, два одиночества и непонимания, две обиды.
«...На другой день я также тщетно пытался проникнуть к графу при посредстве сынов и дочерей его, — писал он несколькими днями позже Преосвященнейшему Вениамину, Епископу Калужскому и Боровскому. — Ссылаясь на запрещение докторов, все отвечали отказом. При графе в это время постоянно находились дочь его графиня А. Л. Толстая, г.г. Чертков и Сергеенко, имевшие вообще всегда на графа большое влияние и прежде, до болезни его. На просьбу к дочери графа А. Л. Толстой лично переговорить со мной, она письменно также ответила отказом, как равно и на другое письмо мое, переданное ей через брата ея графа Андрея Львовича Толстого. О ходе болезни графа и вообще о состоянии здоровья его определенных сведений я также не имел. Не теряя надежды я всегда был наготове, чтобы по первому зову графа явиться к нему немедленно... Я находился на вокзале, в 20 шагах от его квартиры...»
Ветер и дождь со снегом, темно, далеко до Ясной Поляны, до родного очага, в этом Астапове, в доме обрусевшего латыша Ивана Ивановича Озолина.
...Граф проснулся ночью от дурного сна и увидел светящуюся щель под дверью в свой кабинет. Оттуда раздавалось легко шуршание, будто мышь бегала за перегородкой.
«Опять читает, ищет...— мучительно подумал граф. — Что ищет? Зачем читает?...»
Он сел на кровати, зажег свечу, стоявшую на тумбочке, и долго смотрел на светящуюся щель, пока в нем поднималась волна негодования, смешанного с отчаянием. Он, человек, которого знает, читает и чтит весь мир, должен в собственном доме терпеть такие унижения, по существу слежку. И от кого? От верной жены, от Сони, с которой вместе почти полвека...
Он нарочно уронил на пол книгу, которую читал с вечера. Свет в кабинете моментально погас, легкие торопливые шаги за дверью сказали ему, что Софья Андреевна удалилась на свою половину.
Лев Николаевич с неудовольствием вспомнил про «музей». Год назад Софья Андреевна вознамерилась сдавать его черновики, рукописи, корректуры в Исторический музей на хранение. Иногда спрашивала его, иной раз и нет. Объясняла это тем. что берегла драгоценные бумаги от случайного пожара или, не дай Бог, от бунта мужиков. Какой бунт? Отговорки, уловки... На самом деле стремилась только к одному — чтобы бумаги не попали к Черткову. Граф терпел, но терпение лопнуло, когда там же, в музее, а значит, предварительно и в руках жены оказался его карманный тайный дневничок, в который он заносил мысли и суждения, не предназначенные для чужих глаз. И для глаз жены в первую голову.
Снова раздались легкие шаги, но на этот раз со стороны покоев семьи, и в его спальню вошла Софья Андреевна в ночной длинной рубашке, со свечою в руке.
— Я заметила свет у тебя, Левушка. Как твое здоровье? — спросила она, стараясь быть ласковой.
Всё ложь, всё! Он почувствовал, как сильнее и чаще забилось в волнении сердце. И одновременно с неудовольствием отметил, что тени от свечи на лице Сони делают это лицо еще более некрасивым, острым и хищным.
Зачем она здесь? Зачем мучает его?
— Спасибо. Мне покойно, — ответил он. — Ступай спать и не волнуйся. Тебе вредно.
Она усмехнулась своим мыслям и, огораживая язычок свечи ладонью, выплыла из комнаты.
Граф досадливо поморщился, встал с кровати. Надо что-то делать. Давно надо что-то делать. После того, как он написал секретное завещание, где отдавал все без исключения свои рукописи, все, когда-либо им написанное, в руки дочери Александре — и никому более! — жизнь стала невыносимой.
Софья Андреевна о завещании не знала, но женским своим чутьем, супружеской многолетней интуицией догадывалась, что призошло что-то ужасное для нее, ибо в этих бумагах были ведь не только образы и характеры героев, но и суждения касательно самой графини — и не всегда лицеприятные.
Она слишком хорошо знала о том, с каким тщание станут будущие читатели, исследователи, историки разбирать каждую толстовскую строчку и строить заново его жизнь по этим записям — жизнь, которую Софья Андреевна создала не менее, чем сам граф. Это было их общее произведение, но по этим записям — она чувствовала! — выходило, что она была помехой. Злобной психопаткой, подозрительной дурой с паранойей.
Но это ведь неправда!
И она сдавала бумаги в музей, просто в качестве «частного хранения», но служащие слишком хорошо знали — чьи это бумаги и что с ними надлежит делать, когда граф Лев царственно отправится в вечность. И уже готовили исподволь экспозицию, где кроме бумаг были и предметы быта, и личные вещи, и даже яловые сапоги, собственноручно пошитые Львом Николаевичем в период очередного «опрощения».
Он вспомнил эти сапоги, ему вдруг стало невыносимо стыдно, что кто-то когда-то будет благоговейно взирать на эти неумелые графские причуды, а может, и наоборот — посмеется над чудачествами великого писателя. Великого ли?.. Стыдно, стыдно перед Господом!
Сердце забилось еще чаще, дыхание стеснилось. Он посчитал пульс. 97 ударов в минуту. Взглянул на часы. Половина четвертого утра.
И вдруг отчетливо понял: надо бежать. Именно бежать, не уйти, не уехать, а бежать, как каторжнику, как рабу с галер, тайно и скоро.
Он, стараясь ступать неслышно, со свечою в руке,вышел из спальни и приблизился к покоям дочери Александры. Чуть притворил дверь и позвал громким шепотом:
— Саша!
Дочь вспорхнула с кровати, будто только и ждала этого возгласа. Подбежала к нему, вгляделась в лицо.
— Папа, тебе плохо? Позвать Душана?
— Да, разбуди его. Но не за тем, — твердо сказал он.
Саша еще внимательнее взглянула на него.
— Пусть собирается. Мы уезжаем.
— Как? Сейчас?
— Да. Немедленно, сей же момент. Собирай вещи и вели закладывать коляску.
Она кивнула послушно, будто этого и ждала, и направилась по коридору к комнате домашнего врача Душана Петровича Маковицкого
— Только тихо! Тихо! — вслед ей задушенно выкрикнул он.
И опять с неудовольствием отметил: боится. Боится, что Софья услышит, спустится, выйдет сцена, истерика, а освобождения не выйдет. Жалкий раб!
Через минуту Саша вернулась с заспанным Маковицким, который первым делом нащупал пульс графа и велел тому сидеть на кровати, пока происходят сборы. Саша быстро и ловко собирала большой дорожный баул, с которым обычно граф ездил в Москву. Он по движениям дочери понял, что она не только не обеспокоена, но рада за него, рада, что он наконец решился.
— Книги, книги возьми, — шепотом приказывал он, кивая на лежащие на тумбочке “Деяния Апостолов”, “Мысли на каждый день” и “Круг чтения”.
К шести часам все было готово. Лев Николаевич уже был облачен в длинное пальто, горло замотано шарфом. Они присели на дорожку, и он почувствовал, что его начинает колотить дрожь.
Встал, перекрестился.
— Ступайте, ступайте! — приказал он дочери и врачу. — Я подойду.
Они исчезли с баулом.
Лев Николаевич надел картуз, подошел к зеркалу и вгляделся себе в глаза, как бы прощаясь с самим собой в этом доме. Обвел взглядом комнату.
Свободен?
И шагнул за порог.
Он спустился с крыльца и направился по дорожке в сторону конюшни. Темнота хоть глаз выколи. И чувство, что в спину целятся из ружья. Гадкое чувство. Все ждал, что Софья выскочит из дома, растрепанная, заголосит, как деревенская баба, хоть он и знал, что она так не умеет. А лучше бы умела. Тогда бы, может быть, остался.
Он сбился с дороги, попал в какую-то чащу, продирался сквозь ветви, ругаясь шепотом. Картуз слетел с головы и исчез в кромешной темноте. Граф беспомощно тыкался растопыренными руками в пространство, стараясь найти выход. Борода намокла под мелким моросящим дождем.
Пришлось вернуться. Дом спал. Он осторожно поднялся на крыльцо и нашел в прихожей зимнюю шапку на вешалке, взял в руки фонарь. Надел ее и уже без приключений добрался до конюшни.
Там ждала его запряженная коляска, в которой сидели Душан и Саша. Кучер Семен сидел на облучке, две кобылы — пегая и каурая — перебирали ногами. Лев Николаевич сел в коляску и запахнул полость, прикрывающую колени.
— Пошел! — приказал он кучеру.
Лошади тронули с места, пассажиры коляски молча перекрестились.
Час ехали до станции, и во время дороги граф чувствовал, как натягивается невидимая нить, будто резиновый канатик, связывавший его с домом, напрягался за спиной, тянул обратно, делал больно. Он надеялся, что, может быть, этот канатик лопнет наконец и принесет облегчение, но тот вся тянул назад, и мысли об оставшейся там жене, как он ни гнал их от себя, не давали покоя.
Он сделал правильно, но почему так больно? И почему жалость к Софье Андреевне, которая затерзала его и замучала, пытаясь контролировать всю его жизнь и творчество, сейчас сильнее чувства свободы?
— Папа, куда мы едем? — спросила Саша.
— Ах, да... — Лев Николаевич встрепенулся — Правь на станцию, в Щекино, — приказал он Семену.
На станции, разбудив спавшего кассира, купили билеты до Шамордина, где в монастыре жила монашкой Мария Николаевна, сестра графа. И всю дорогу Лев Николаевич ощущал, что за ним гонятся и был готов к тому, что вот сейчас в купе войдет грозной Немезидой графиня Софья Андреевна.
На станции дождались поезда, который выплыл из осеннего утреннего тумана — громыхающий, черный, блестящий от влаги, поглотил путников и повез по России.
Однако Александра осталась, чтобы вернуться в Ясную Поляну и связаться там с Чертковым, который пока ничего не знал о планах Льва Николаевичва, да и сам граф смутно их себе представлял.
В поезд сели вдвоем с доктором, но до Шамордино не доехали; граф пожелал сделать остановку в Оптиной пустыни.
— Мне надо к старцам, — сказал он Душану. — Я хочу говорить с ними.
В Оптиной остановились в монастырской гостинице. Встретившему их послушнику Лев Николаевич сказал:
— Может быть, вам неприятно, что я приехал к вам? Я — Лев Толстой. Отлучен от церкви. Приехал поговорить с вашими старцами. Завтра уеду в Шамордино.
Послушник лишь поклонился молча, отдавая графу ключ от комнатки, больше похожей на келью.
Вечером же Лев Николаевич, позвав послушника, долго расспрашивал — кто настоятель, кто скитоначальник, сколько братства, кто старцы, здоров ли отец Иосиф и принимает ли.
Однако наутро к старцам он не пошел. С утра ушел гулять, несколько раз приближался к скиту, но так и не осмелился войти внутрь, какая-то сила остерегала. Не та ли, что и сегодня держала его на поводке и тянула назад, в Ясную Поляну?
«Люблю ли я ее? — спрашивал он себя в сотый раз и в сотый же раз отвечал: да. — Но отчего не хочу с нею жить вместе?» И рядом, как эхо, вторилось: «Верую ли я? Тогда отчего не хочу жить в церкови?»
И ответ на оба вопроса выходил один: ибо нет в той любви свободы выбора, ибо нет в любви вообще свободы выбора, а значит, это не любовь, а повинность.
В три часа пополудни быстро собрался и уехал в Шамардино к сестре.
Встреча их была трогательна и печальна. Лев Николаевич со слезами обнял сестру и разрыдался. Потом они уединились для разговора.
Граф рассказал, что был в Оптиной, что там хорошо, что с радостью он надел бы подрясник и жил бы, исполняя самые низкие и трудные дела, но условием поставил бы не принуждать его молиться, чего он не может.
— Левушка, но и ты тогда не должен проповедовать и учить, — заметила Мария Николаевна.
— Чему учить, там самому надо учиться. Надобно мне вернуться и повидать старцев...
— Что же вчера не повидал?
— Вот то-то и оно. Не повидал... А то и здесь, в Шамордино,затворился бы в своей храмине и готовился бы к смерти. Все лучше, чем учить кого-то...
Сестра вздохнула.
А граф, несколько успокоенный, прошелся по монастырю и отправился в гостиницу. И в самом деле, почему бы не остаться здесь, рядом с сестрой, подвести итоги долгой и трудной жизни, не участвовать в борьбе за собственное бессмертие... Но судьба распорядилась иначе.
На следующий день неожиданно приехала дочь Саша, стала торопить, нужно решать дела, подписывать какие-то бумаги, Чертков волнуется... Опять!
Это стало невыносимо.
Партия Черткова, в которую входила и Александра Львовна, противостояла Софье Андреевне в борьбе за наследство. Дом и имущество — это было не главное. Главным были бумаги, бесценные толстовские рукописи, и право издавать его книги. Борьба велась с переменным успехом. Софье Андреевне удалось спрятать в «музей» значительную часть толстовских бумаг, в ответ на это Чертков сумел уговорить графа отписать дочери право на владение этими бумагами и вообще всем, что им было написано за свою жизнь.
Софья Андреевна пока об этом завещании не знала.
Вечером в Оптиной пустыни задул пронзительный ветер, свистевший в проемах звонниц монастыря, потом посыпалась ледяная крупа. Лев Николаевич, выйдя на вечернюю прогулку, оступился, угодил ногою в лужу, уже подернутую первым ледком, и вынужден был вернуться.
Поезд проходил мимо рано утром и делал здесь пятиминутную остановку. Однако к утру граф почувствовал сильное першение в горле, слегка поднялась температура. Несмотря на это, решено было ехать, Душан напоил Льва Николаевича какой-то микстурой, надеясь, что легкая простуда пройдет, но температура продолжала подниматься, графа охватил озноб, болезнь развивалась стремительно, так что к станции Астапово встал вопрос, а не следует ли сойти с поезда?
На станции доктор Маковицкий выскочил на перрон и бегом пустился в здание вокзала к начальнику.
— Задержите поезд, не отправляйте! — с ходу попросил он, вбежав в кабинет.
— Позвольте, что случилось? — задал вопрос начальник, белесый человек лет пятидесяти с острыми скулами.
— В поезде находится граф Лев Толстой. Он серьезно болен. Ему нужна помощь. Есть ли возможность разместить его в Астапове?
— Безусловно. Мой дом к услугам Льва Николаевича, — без промедления ответил начальник.
— Благодарствую. Сейчас мы выйдем.
И через несколько минут из поезда вышел старец, известный своим обликом всей России — с седой раскидистой бородой, в шапке и длинном пальто, поддерживаемый с двух сторон дочерью Александрой и доктором Маковицким.
Дом начальника станции Озолина находился напротив вокзала, по ту сторону железнодорожного пути. Это было длинное и приземистое одноэтажное деревянное здание, огороженное забором с калиткой.
Туда и направились гости, ведомые хозяином.
И тут впервые за всю поездку, за эти несколько дней, граф почувствовал, что отпустило, резиновый канатик уже не тянет назад, не делает больно. Но странно, вместо этого возникло не облегчение, а опустошенность, будто то, что давало ему силы и волю к жизни, внезапно обмякло, как сдувшийся воздушный шарик, скукожилось и отпало.
Вместо этого пришла пустота.
И он понял, что умрет здесь, на этой станции, и дело не столько в развивающемся воспалении легких, а в том, что шарик сдулся, связь с прошлым и жизнью оборвалась, и он получит-таки свободу, но ту — вечную, потустороннюю и ледяную.
А на вокзале телеграфист уже отбивал сообщения о том, что «пассажир поезда № 12» граф Лев Николаевич Толстой находится на глухой станции Астапово и что он опасно болен.
Наступал последний акт этой трагедии, в котором возле умирающего графа сошлись разные люди, а другие напряженно наблюдали за развитием событий по газетам, но чем ближе к умирающему были они, тем дальше от почтения и любви были их действия, хотя казалось, что они-то именно и руководствуются только любовью.
Святая Церковь, которой предание анафеме Толстого было как кость в горле, которую Священный Синод сам приготовил и сам же ею подавился, не преминула попытаться вернуть великого еретика в свое лоно. Уже с той минуты, как старец появился в Оптиной пустыни, каждый его шаг был известен первосвященникам, о каждом разговоре доложено по церковным инстанциям. Уже следующим утром была получена телеграмма Преосвященного Калужского о назначении, по распоряжению Синода, бывшему скитоначальнику иеромонаху Иосифу ехать на станцию Астапово Рязанско-Уральской железной дороги к заболевшему в пути графу Льву Толстому для предложения ему духовной беседы и религиозного утешения в целях примирения с Церковью.
Однако отец Иосиф был сам болен и на воздух не выходил. Настоятелем Оптинским испрашивалось разрешение, вследствие затруднения для отца Иосифа ехать по назначению, заменить его отцом игуменом Варсонофием. На это последовал ответ епископа Вениамина, что Святейший Синод сие разрешает. Затем было телеграммой запрошено у Преосвященного, достаточно ли, в случае раскаяния Толстого, присоединить его к Церкви чрез таинства покаяния и святого причащения, на что получен ответ, что посланное для беседы с Толстым лицо имеет донести Преосвященному Калужскому о результате сей беседы, чтобы епископ мог о дальнейшем снестись с Синодом.
Вечером того же числа было телеграммой спрошено у начальника станции Астапово, там ли Толстой, можно ли его застать и если выехал, то куда. На это получен ответ от Озолина, что семья Толстого просит не выезжать. Однако игумен Варсонофий, во исполнение синодального распоряжения, все же выехал к графу Толстому в Астапово.
Сюда же нахлынули и журналисты, газеты всей России и мира следили за событиями, но они могли лишь описывать, влияли же и боролись другие силы.
Кроме несчастного посланника Святой Церкви, коротавшего часы на лавке в зале ожидания вокзала, в Астапово немедля прибыли Владимир Григорьевич Чертков, его душеприказчик по тайному завещанию, и Софья Андреевна, жена и мать его детей.
Как они там все вместе обитали на этой маленькой станции, здоровались ли при встрече, что говорили и делали — об этом можно лишь догадываться. Но несомненно одно — все они делали то, что делали, убежденные в своей любви к умиравшему графу.
Они делали это по любви.
По любви совершается все зло любимому человеку.
И лишь те тысячи читателей, которые никогда не видели графа, для которых он сам был лишь несколькими толстыми томами, стоявшими на полке, сотнями страниц и тысячами слов, над которыми они раздумывали о жизни, любви и смерти, — лишь они любили его преданно, не причиняя ему зла и боли.
А его жена, дети, ученики, близкие, церковники, страдая вместе с ним телесно и духовно, разрывали его сердце на части и ожесточали в той борьбе за наследие, за право толковать его каждый на свой лад, за право, наконец, получать доходы с издания его книг.
За право считать его своим, присвоить его на веки вечные.
Против чего решительно восставала его душа.
Он не принял жену и не принял священника. По-хорошему ему надо было изгнать из своей последней обители и Черткова с секретарем, чтобы идти к Всевышнему в гордом одиночестве. Но на это уже не было сил. Нанятые Чертковым доктора окружили больного плотным кольцом, болезнь сжимала его в своих объятьях и, хотя граф до последних часов боролся, делал какие-то записи и распоряжения, подточила и сломила его.
Жена была допущена к нему за час до кончины, когда Лев Николаевич уже был в беспамятстве.
Он умер в шесть часов и пять минут утра. Часы в музее на станции Астапово, которая позже была переименована в станцию Лев Толстой, всегда показывают это время.
А потом были тяжбы между родственниками за право обладания бумагами, были мемуары и исследования, доводы сторон проверялись и перепроверялись, и все это, несомненно, делалось из великой Любви к великому человеку.