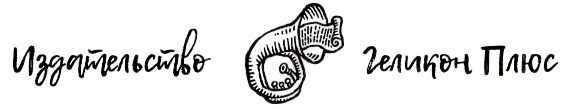Александр Житинский "Потерянный дом, или Разговоры с Милордом (30)"

| Автор | Александр Житинский |
| Изд-во | Геликон Плюс |
Глава 30
Послание соавтору
Милорд!
Представляя Вашему благосклонному вниманию очередные главы нашей истории, я считаю себя обязанным сопроводить их кратким комментарием.
Вам может показаться, что я нарушил литературную этику, поместив описание «Швейцарии» как места развлечения и отдыха генерала Николаи. Слишком уж это похоже на «конек» дяди Тоби, описанный Вами в «Жизни и мнениях Тристрама Шенди, джентльмена». Бастионы и контрфорсы, сооружаемые капралом Тримом в усадьбе дяди Тоби, полностью соответствуют генеральской «Швейцарии» — и не только по способу выполнения, но и тем, что подчеркивают неординарный, чудаковатый характер персонажей. Налицо явное заимствование.
Каюсь, я сделал это бессознательно и заметил оплошность, когда электрический паровозик уже бежал по миниатюрной стране, а Егорка, держа в руках пульт управления, следил за ним с затаенным дыханием.
Конечно, я сразу же представил себе упреки литературоведов на страницах печати: автор не постеснялся обокрасть своего соавтора, невзирая на то, что тот — классик! Ах, как нехорошо... Да и читатели могут заметить, хотя чаще всего читатели этого не замечают.
Что мне было делать? Путь первый: сесть в электричку, добраться до дачного поселка, где стоит дача генерала, а там, пользуясь знакомством с моей соседкой Ириной Михайловной, уговорить Григория Степановича ликвидировать «Швейцарию», снести ее с лица земли. Но на каком основании? Только лишь потому, что когда-то в старой Англии некий джентльмен упражнялся в фортификационном искусстве в своей усадьбе? А скорее, даже не было никакого джентльмена, а все это придумано автором (простите, милорд!).
Согласитесь, основания для ликвидации любимой забавы не просто шаткие. Они бредовые. Генерал мог сдать меня в психлечебницу.
Путь второй: пользуясь ночной темнотою, пробраться на участок генерала и разрушить «Швейцарию» самому. Уничтожить, так сказать, плоды своей фантазии посредством лопаты. Но у нас недаром есть поговорка, милорд: «Что написано пером, не вырубишь топором», — да и в милицию можно попасть, а кто тогда будет сочинять роман дальше?
Путь третий: вымарать «Швейцарию» из романа, то есть сделать вид, что ничего на даче такого нет, там просто висит гамак. Но это уже будет явный обман читателя, а этим я заниматься ни при каких обстоятельствах не намерен!
Таким образом, положение представляется безвыходным, и мне придется терпеть упреки в плагиате. Меня успокаивает лишь то, что таких осознанных и неосознанных заимствований и ассоциаций в нашем романе — бездна, что входит в наш метод, не так ли, мистер Стерн? Честнее отдавать себе в этом отчет, а не создавать у читателя впечатление, будто ты первым взялся за перо и до тебя не существовало никаких сочинителей. Кроме всего прочего, Вы, милорд, — мой официальный соавтор, так что пускай в этом видят наше духовное родство, на худой конец — Ваше творческое влияние.
Но есть вопрос гораздо более серьезный, чем литературная этика. Я имею в виду кооператив «Воздухоплаватель».
Как Вы заметите, прочитав присланные главы, я углубился в семейные дела Демилле и Ирины, будто забыв, что у меня есть еще дом на Безымянной улице. Вам и читателям может показаться, что тут налицо композиционный просчет. Если бы это было так! Все гораздо хуже.
Если Вы помните, мы расстались с кооперативом в тот счастливый момент, когда общая беда наконец отворила души и двери квартир, заставила кооператоров сплотиться, почувствовать единение и давно забытый дух коллективизма. Общее собрание, субботник, первомайская демонстрация, торжественный концерт и банкет создали предпосылки для превращения разрозненных жильцов в коллектив единомышленников. Тому же способствовала и газета «Воздухоплаватель», и даже то, что комендант дома поселился в бывшем помещении Правления. Кооператив на глазах превращался в семью, и мне как автору было это приятно. Уже мерещились главы, посвященные совместным турпоходам, и даже рисовался в воображении коллективный отпуск, проведенный воздухоплавателями в семейном лагере где-нибудь на Валдае... Но не тут-то было! Жизнь не желала следовать фантазиям сочинителя.
Эйфория первых успехов и достижений, связанных с восстановлением электроснабжения, водопровода, газа и канализации, быстро прошла. Жить стало сносно, и тут обнаружились вещи, которые нельзя было устранить в столь короткие сроки или же принципиально неустранимые. Не говоря о мелких бытовых неудобствах, связанных, в основном, с детьми, коих нужно было срочно переводить в местные детские учреждения, и с необходимостью тратить больше времени на дорогу к службе, — так вот, не говоря об этих мелочах, обозначились два пункта, представлявшие действительную угрозу построению счастливой жизни в кооперативе. Я говорю о подписках о неразглашении и темноте в окнах.
Необходимость постоянно держать язык за зубами в разговорах со знакомыми и родственниками, невозможность приглашать к себе гостей, требование сообщать о своих выездах майору Рыскалю и прочее сильно нервировали кооператоров. В первые недели, когда кооператоры осознавали исключительность своего положения, такое отчуждение от внешнего мира казалось вполне разумным и вызывало даже некоторую гордость, как вызывает гордость всякая осознанная исключительность. Но очень скоро гордость сменилась унынием. Незаметно стали ощущать себя заложниками, удручала также постоянная необходимость врать и выкручиваться.
Однако еще хуже действовало на кооператоров электрическое освещение квартир, работающее с утра до ночи. Лампы дневного света, поставленные везде по решению правления, лишь подчеркнули отсутствие солнечного света. Город вступал в пору белых ночей, на улицах было светло днем и ночью, а в жилищах кооператоров мертвенно синели люминесцентные лампы, издававшие монотонное, выматывающее душу жужжание. Кооператив жил как бы с повязкой на глазах, благодаря тесному соседству со старыми домами на Безымянной. Воздействие было чисто физиологическое.
Самое печальное, что отсутствие света было неустранимо. Если режим неразглашения со временем можно было ослабить, по крайней мере, можно было на это надеяться, то говорить всерьез о сносе старых домов и расчистке места вокруг кооператива никто не решался.
Я хочу подчеркнуть маленький нюанс, милорд. От неразглашения в равной мере страдали все кооператоры, однако отсутствие солнечного света коснулось их неравномерно. Квартиры, выходящие окнами в торцы здания, не испытывали никаких неудобств. Почти так же обстояло с верхними этажами, имевшими обзор из окон в виде однообразного ландшафта крыш Петроградской стороны. Но таких квартир было меньшинство. Подавляющее большинство кооператоров жило окнами в щели по обеим сторонам здания и могло лицезреть лишь старые стены соседних домов, освещаемые ртутными лампами.
Немудрено, что в таких условиях наметилось некоторое различие в настроениях и подходу к проблеме среди разных слоев кооператоров, что подрывало дух коллективизма. Одни бодрились, призывали к единству и борьбе с трудностями, напирали также на местный патриотизм, другие же смотрели в будущее с меньшим оптимизмом и переключили свою энергию на индивидуальные поиски выхода. Эта часть воздухоплавателей уже летом, пользуясь отпусками, деятельно занялась обменом квартир, используя разные способы: личные контакты в местах скоплений желающих обменяться, бюро обменов, приложение к газете «Вечерний Ленинград» и объявления — как официальные, расклеиваемые специальными службами, так и самодеятельные, которые лепятся где попало, на любом удобном месте.
Естественно, варианты были неравноценны. Понимая, что обменщиков трудно привлечь экзотикой расположения дома и постоянным отсутствием дневного света в квартирах, кооператоры пускались на всяческие хитрости, предлагая ряд льгот при обмене. Квартиры обменивались с уменьшением количества комнат и общей площади, предлагались деньги по договоренности и иные услуги, вроде бесплатного ремонта обмениваемой квартиры или гаража в придачу. Однако охотников находилось мало. Стоило желающему обменяться с выгодою приехать на Безымянную, чтобы посмотреть квартиру собственными глазами, как наступало быстрое разочарование. Никакие прибавочные метры и суммы по договоренности не могли компенсировать пугающего вида ущелий по обеим сторонам дома и придвинутых вплотную к окнам чужих домов. «Что же так неудачно построили?» — качали головами обменщики, но кооператоры, связанные подпиской о неразглашении, даже тут не могли отвести душу и пожаловаться на космические причины беспорядка, чтобы получить хотя бы моральную компенсацию, а вынуждены были глухо бормотать про ошибку в проекте, халатность, безмозглость... Коротко говоря, врали.
В таких случаях соглашались на обмен либо отпетые, опустившиеся люди, как правило, алкоголики, коим нужны были деньги, либо одинокие старики и старухи по той же причине. Другим, более редким вариантом была сдача кооперативной квартиры внаем. В этом случае кооператоры подыскивали себе другую, тоже сдающуюся внаем, и поселялись в ней, свою же сдавали за полцены либо отчаянно нуждавшимся студентам, либо вполне солидным мужчинам, якобы для работы, что на деле означало превращение квартиры в место свиданий.
Таким образом, уже к осени наметилась тревожащая тенденция в демографии кооператива: трудоспособное и в целом морально устойчивое население нашего ЖСК стало разбавляться нерабочим и антиобщественным элементом, что повлекло за собою ухудшение морального климата. Тут и там на разных этажах возникали сборища; сомнительного вида граждане попадались на лестницах и в ущельях — они двигались бесшумно, как тени, крепко сжимая в руках бутылки; по временам лестничные площадки оглашались песнями и воплями; вскоре был зафиксирован первый пожар, случившийся из-за неосторожности обращения с огнем в состоянии опьянения (между прочим, горело над Рыскалями, в трехкомнатной квартире, где поселилась семья из трех человек: отец, мать и взрослая дочь — постоянно пьяные). Пожар удалось быстро ликвидировать и даже завести дело на алкоголиков в надежде их выселить, но Рыскаль сознавал, что дело будет затяжным, между тем как устои расшатывались быстро.
Новоприбывшие, получившие обменные ордера, не были воздухоплавателями, они не летели той памятной апрельской ночью над городом, не пережили страшных утренних минут, не ощутили вдохновения демонстрации и субботника. Словом, были чужими. Изредка наведываясь в Правление, они лишь удивлялись стенной газете со странным названием да обстановке штаба с картой и портретом Дзержинского на стене, под которыми сидел худощавый майор милиции, чего в других кооперативах не наблюдалось. Но подписка о неразглашении, а паче нелюбопытство новоприбывших не позволяли ввести их в истинный курс дела, а посему они так и оставались отторгнутыми от редеющего коллектива воздухоплавателей. Группы взаимопомощи каждого подъезда проводили воспитательную работу с новичками, но больше по обязанности, формально, считая их в глубине души чужаками. Неудивительно, что те еще больше обособлялись, знать не хотели моральных обязательств перед соседями, более того — досаждали им умышленно, пользуясь для этого различного рода шумами и антисанитарными акциями. В мусоропроводы спускалось все, что ни попадет под руку, отчего происходили постоянные засоры, стены лестничных площадок и пролетов покрывались постепенно вязью рисунков и словосочетаний, далеко не все из которых были пристойны, в лифтах мочились.
Но еще хуже было с пустующими квартирами, которых становилось все больше, так что к августу насчитывалось уже четырнадцать. Рыскаль с ними замучился. Это была жилплощадь кооператоров, формально оставшихся членами кооператива, то есть прописанных в нем, на деле же — не проживающих и не сдающих свои квартиры внаем. Первыми из этой группы были, как вы помните, супруги Калачевы, покинувшие кооператив в день субботника. Беглецы поселялись у родственников в ожидании лучших времен, иные нанялись на работу в районы Крайнего Севера, другие сняли квартиры — в основном неподалеку от улицы Кооперации, чтобы не переводить детей в другие школы... — для Рыскаля все было едино: в доме оставалась пустующая квартира, за которой надобно было присматривать, ибо антиобщественный элемент в момент разузнавал о ее появлении и начинал пользоваться ею для своих надобностей. Учитывая примитивность дверных замков и крайнюю хлипкость самих дверей, это было несложно. Правда, соседи-кооператоры доносили в Правление, заслышав за стеною пьяные звуки, и тогда Рыскаль во главе оперотряда совершал набег на притон, результатом чего были аресты нарушителей. Те отделывались легко: более крупного уголовно наказуемого деяния, чем хулиганство, в их поступках нельзя было отыскать. В итоге на этажах нашего дома, кроме новоприбывших, которые сами были не подарок, постоянно — в особенности же по ночам — хозяйничали пришлые люди с темной биографией. Летучие притоны возникали то там, то тут, пока наконец не грянул гром: в одной из пустующих квартир был обнаружен труп изнасилованной молодой женщины. Слухи об этом разнеслись по кооперативу молниеносно. Насильников и убийц нашли через три дня, тут же, на Подобедовой, — а майор Рыскаль получил предупреждение о несоответствии занимаемой должности.
Но самым печальным и удручающим было то, что в результате всего вышеописанного среди воздухоплавателей пышным цветом расцвело доносительство. Причем доносили не только на уголовный элемент, но и на тех соседей, которые вели себя непатриотично, то есть намеревались обменяться, покинуть родной дом. Рыскаль каждое утро обнаруживал в своем почтовом ящике анонимку или подписанное письмо, где сообщалось, что кооператор имярек из квартиры такой-то поместил объявление об обмене или же принимал у себя обменщиков. Предлагалось принять срочные меры: осудить, запретить обмен и даже передать дело в суд по обвинению в нетрудовых доходах (намекалось на деньги «по договоренности»). Рыскаль мрачнел, он не любил анонимщиков, однако приходилось знакомить с доносами членов Правления, это становилось известным и группам взаимопомощи, а те начинали действовать, охваченные благородным негодованием. Особенно усердствовала Клара Семеновна Завадовская. Мысль о том, что кто-то может ее обмануть, смыться из кооператива, оставив ее с темнотою в окнах, не давала Кларе покою. Страдать — так всем вместе! Поэтому Клара в одиночку или поддерживаемая Ментихиной врывалась к соседям, стыдила, произносила высокие слова о долге, ответственности и том же патриотизме, что лишь усугубляло раскол. Она же писала заметки в газету «Воздухоплаватель», где публично объявляла изменников «врагами» и грозила всякими карами. В приватных разговорах Клара Семеновна подкапывалась и под Рыскаля, обвиняя его в мягкотелости, в неумении навести порядок твердой рукой. Рыскаль пытался уговаривать обменщиков не торопиться, но, исчерпав аргументы, вынужден был подписывать обменные заявления, ибо не мог нарушать закон.
Надо сказать, что супруг Клары Семеновны, отпущенный органами милиции, в это же самое время пытался решить проблему своим путем. Но об этом я расскажу после.
Таким образом, кратковременный расцвет сменился упадком. Пробудившаяся сознательность обернулась враждой коллективистов и индивидуалистов, безобразиями и пьянством. Мне очень не хотелось описывать эти явления, я надеялся на их случайность, теперь же вижу, что ошибался. Особенно неудобно было перед Вами, милорд. Как-никак Вы иностранец, а обнаруживать перед иностранцами свои слабости и пороки мы не любим. Стыдно, знаете... Я и сейчас сообщаю Вам об этом конфиденциально, не решаясь вынести наши проблемы на страницы романа. Однако молчать далее нельзя. Мы так привыкли считать наши неудачи и промахи случайными, а достижения — закономерными, что лишь трезвый объективный взгляд, горькое сознание того, что пороки столь же органично присущи нашему кооперативу воздухоплавателей, сколь и добродетели, помогут нам выжить.
Заканчиваю свое послание. Я сбросил камень с плеч. Далее умалчивать ни о чем не намерен. А вообще, я скучаю по Вас, милорд. Боюсь также, что Ваше общение с Мишусиным может отвратить Вас от нашей литературы, а она, ей-богу, не так ужасающе продажна, как может показаться.
Примите, милорд, уверения в совершеннейшей моей преданности и почтении.
Ваш соавтор.