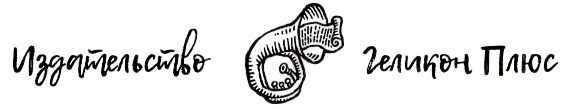Александр Житинский "Потерянный дом, или Разговоры с Милордом (38)"

| Автор | Александр Житинский |
| Изд-во | Геликон Плюс |
Глава 38
Спичечный дом
Я искал смерти, но не нашел ее.
Помню страшную осеннюю ночь, сумеречное состояние души, мысль о веревке и фигуру жены в окне незнакомой квартиры. Я никогда не думал, что галлюцинации могут быть столь ярки и осязаемы. Как она смотрела на меня! Как дрожало пламя свечи!.. Не помню, как я оказался на улице. Она была почему-то узкой, как клинок шпаги. Я мчался по ней, оглушенный топотом своих шагов, пока наваждение не кончилось. Стены раздвинулись, дождь омыл мне лицо, блестели холодные рельсы.
И тут из-за поворота показался трамвай. Откуда он взялся в ночном городе? Положительно, кто-то заботился обо мне, посылая знаки спасения. Но я еще был во власти страха, и смерть пряталась где-то рядом, в темных парадных. Вагон спешил ко мне, раскачиваясь и звеня; я упал перед ним, и щека моя коснулась холодной стали.
Мгновение длилось целую вечность. Целую вечность пели тормоза, дрожал рельс, впаянный в асфальт, трамвайный звонок заливался в истерике. Как вдруг все стихло. Я поднял голову. Вагон, сиявший огнями, стоял в метре от меня, а с передней площадки не спеша спускался высокий плечистый человек с железной рукояткой в руке. Мысль о том, что он идет убивать меня этой рукояткой, обожгла мое пьяное сознание. Он дотронулся до меня, словно проверяя — жив я или нет, потом подсунул руки мне под мышки. Я почувствовал огромную физическую силу этого человека, ибо он легко, как перышко, оторвал меня от земли и поставил на ноги. «Ну, зачем ты так?..» — с досадою проговорил он, вглядываясь мне в лицо. Я молчал, мне было все равно. «Куда тебе нужно?» — спросил он. «Никуда», — помотал я головой. «Где твой дом?» — «Нигде». — «Откуда ты?» — «Не знаю».
Я отвечал чистую правду, и мой нечаянный спаситель понял это. Он помог мне взобраться в вагон и усадил на сиденье. В вагоне не было ни души. Водитель сел на свое место, установил железную рукоять на четырехгранный выступ и повернул ее. Вагон побежал дальше.
Кажется, мы приехали в трамвайный парк, что находится у самой оконечности Аптекарского острова. Помню какие-то лица, они смеялись, пренебрежительно и с неприязнью рассматривая меня, кто-то предложил позвонить в милицию. Но мой спаситель повлек меня дальше. Мы оказались в стареньком автобусе, развозившем водителей после вечерней смены. Через некоторое время я уже стоял рядом с вагоновожатым у дверей его квартиры.
Я по-прежнему пребывал в полнейшей апатии, мой спутник не пытался со мной разговаривать. Помню еще маленький деловитый переполох, связанный с моим появлением: носили подушки, одеяла, кто-то был разбужен и перемещен в другую комнату... Все это было как во сне. Хозяин провел меня в ванную, помог раздеться. Я покорялся безропотно, как тряпичная кукла. Через пять минут я лежал в чистой мягкой постели. Хозяин погасил свет, пожелав мне доброй ночи, и оставил одного. Сон накрыл меня мгновенно.
Проснулся я рано и, лежа под одеялом, принялся восстанавливать события вчерашнего вечера. Я вспомнил неизвестного плечистого вагоновожатого, который вытащил меня из-под колес, и привел к себе, и умыл, и уложил в чистую теплую постель. Я оцепенел от стыда. Появилось нестерпимое желание выскользнуть из комнаты и, пользуясь сном хозяев, покинуть гостеприимный дом. Но я не сдвинулся с места.
Осмотр комнаты, насколько позволял сумеречный свет за окнами, навел меня на предположение, что в ней проживает молодая девушка, настолько удобно и аккуратно были расположены все предметы, так чистенько и мило было за стеклами стандартной мебельной стенки с книгами, безделушками и фотографиями, среди которых я приметил портрет Высоцкого с гитарой и фотографию длинноволосого молодого человека иностранного вида. Я скользнул взглядом далее и увидел нечто вроде аквариума — стеклянный прямоугольный ящик, в котором виднелись очертания какого-то странного сооружения. Непонятное волнение охватило меня, ибо предмет под стеклянным колпаком был несомненно знаком мне, более того, он обозначал для меня нечто чрезвычайно важное.
Не отрывая от него взгляда, я нащупал выключатель светильника над тахтою и щелкнул им. Я ожидал лучше разглядеть предмет под колпаком, но возникший световой отблеск на прозрачной стенке совершенно скрыл его от глаз, так что пришлось подняться на ноги. Я сделал несколько шагов по комнате, как магнитом притягиваемый непонятным сооруженьицем, хранящимся в чужом доме, как музейный экспонат. Световой отблеск исчез, будто его смахнули ладонью, и передо мною в двух шагах, равно как и во мне, в неизъяснимых глубинах памяти, возникло...
Это было оно, мое юношеское строение, мой отроческий шедевр, потерянная во времени игрушка, определившая призвание: вязь крытых галереек, система башенок с флажками и луковка церкви, вписанная в ансамбль вроде случайно, но на самом деле служащая центром архитектурной композиции. Я смотрел и не мог насмотреться. Мой спичечный дом, чудом возникший в чужом времени и пространстве, породил странное и горькое ощущение, будто я встретился с самим собой — живой с мертвым, точнее, мертвый с живым. Я отошел от него, пятясь, вновь забрался в постель и натянул одеяло до подбородка, продолжая смотреть на стеклянный ящик, где покоилась моя юная душа, как царевна в хрустальном гробу.
Вдруг я резко отбросил одеяло и принялся торопливо одеваться, потому что черные мысли подобрались к самому сердцу. Бороться с ними можно было только действием. Одевшись, я собрал постель. Это отвлекло меня на несколько минут, но лишь только я, засунув белье в ящик под тахтой, уселся на нее, как отчаяние навалилось на меня с новой силой. Я оцепенел, уставившись на спичечный дом, будто ждал от него помощи, и сидел так долго, пока не раздался тихий стук в дверь.
Я не в силах был вымолвить ни слова.
В комнату заглянул хозяин. Он был в брюках и в майке, давшей мне возможность разглядеть его крепкую фигуру с широкими плечами и рельефной мускулатурой, что не так часто встречается в пятьдесят лет — на этот возраст он выглядел. В руках у него был стакан с чем-то белым.
— С добрым утром, — сказал он. — Меня зовут Николай Иванович.
— Евгений Викторович, — кивнул я, испытывая жесточайший стыд.
— Выпейте. Это кефир. Помогает, — он протянул мне стакан.
Я принял стакан и втянул в себя освежающий глоток кислого кефира. Николай Иванович смотрел на меня изучающе.
— Извините. Я сейчас уйду. Мне действительно некуда было вчера идти, — чужим голосом произнес я.
— А сегодня уже есть? — прищурился он.
— Есть.
— А то погодите. У меня сегодня выходной. Глядишь, познакомимся. — Он улыбнулся одним ртом.
Мне не понравилась его самоуверенная доброта, будто он заранее был убежден, что я не принесу ему никаких хлопот, лишь увеличу капитал гуманности, который, судя по всему, этот человек копит. Так нет же! Я испорчу ему торжество! Пусть знает, что подбирать на улице опустившихся людей опасно.
— Что? Радуетесь, христосик?.. — хрипло сказал я. — Не нужно меня спасать! Не нуждаюсь и подаяний не принимаю!
— Евгений Викторович, а ведь хамить команды не было, — спокойно ответил он. — Если бы я был профессиональным спасателем, то работал бы в ОСВОДе. А я трамвайщик. Вы поперек рельсов легли, надо было с вами что-то делать...
— Бросить надо было, — отвернувшись, сказал я.
— Извините, не могу. Вы бы бросили?
Вопрос застал меня врасплох. Я на минуту смешался.
— К несчастью, я испытал в свое время — что это такое... — продолжал он. — Я вам поверил, что у вас дома нет. У вас его и сегодня нет, и долго еще не будет. Я же вижу.
— Как? — не понял я.
— По глазам. У бездомного человека глаза, как у бродячей собаки. У цепной собаки другие глаза, вы замечали?
Я взглянул на него с интересом, ибо не ожидал услышать подобных речей от первого попавшегося водителя трамвая.
— Мне нечем отплатить вам за добрый поступок, — сказал я.
— Я не считаю этот поступок добрым. — Он стал серьезен. — Он лишь естествен для меня.
— Что же тогда добрый поступок? — усмехнулся я.
— Добрый поступок?.. Это вот, например. — Он оглядел комнату и указал на стеклянный ящик, в котором покоился мой спичечный дом.
— Что это? — спросил я сдавленным голосом, потому что дыхание перехватило.
— Это вы не знаете. Это работа одного мальчика, — в голосе Николая Ивановича появились родительские нотки. — Выполнена она давно, более двадцати лет назад. На мой взгляд, это и есть прекрасный, а следовательно, добрый поступок. Посмотрите, как он просто и убедительно выразил волновавшую его идею.
— Какую же идею?.. — спросил я, мучительно краснея.
— Идею братства, разве не видите? Да вы подойдите поближе, подойдите! Эта вещь стоит того, чтобы ее рассмотреть... Несомненный талант.
— А что с ним... сейчас? — спросил я, подойдя к полке и склонившись над своим творением.
— Ничего о нем не знаю, кроме того, что звали его Женя. Ваш тезка, — улыбнулся Николай Иванович. — Мне даже увидеть его не довелось. Есть только старенькая фотография.
— Вот как? Не покажете? — сказал я, стараясь скрыть волнение.
— Отчего же, — Николай Иванович удалился из комнаты и вернулся уже с альбомом, который положил на стол, накрытый кружевной скатертью.
Он торжественно распахнул его, и я невольно вздрогнул: с первой страницы глянул на меня большой портрет Ивана Игнатьевича, моего незабвенного старика, владельца особняка с мезонином, где я клеил спичечный дом.
— Это мой отец, — сказал Николай Иванович, переворачивая страницу.
Он сразу последовал к концу альбома и где-то страницы за три до конца указал на снимок, в котором я узнал себя в возрасте примерно четырнадцати лет рядом с братом Федором. Мы оба в одинаковых курточках-«москвичках» стояли в обнимку у крыльца нашего дома — веселые, стриженные наголо... Как эта фотография попала к Ивану Игнатьевичу? Вероятно, я сам же ему и подарил, да забыл об этом.
— Вот Женя, — Николай Иванович указал на моего брата.
— Ну уж нет! — вырвалось у меня.
— Простите?
— Женя тот, который выше, — сказал я.
Николай Иванович недоверчиво и с опаской взглянул на меня.
— Откуда вы знаете?
— Потому что это я, — проговорил я как-то неловко, отчего хозяин отодвинулся, пристально глядя на меня. Он перевел взгляд на фотографию, снова на меня, хмыкнул.
— А вы... не шутите, Евгений Викторович?
— Вашего отца звали Иваном Игнатьевичем. Он жил в особняке на... — Я назвал точный адрес. — Умер в пятьдесят седьмом году. Я видел, как его хоронили. И вас помню. — У меня во рту почему-то пересохло. — А до того я три года ходил к нему в мезонин, клеил этот дворец. Это все правда.
Николай Иванович молча слушал мой рассказ, глаза его увлажнялись. Вдруг он крепко обнял меня, и я вновь почувствовал его силу.
— Родной вы мой!.. Простите, но вы... этот мальчик значит для нашей семьи слишком много! — объяснял он глухо, не выпуская меня из объятий. — Это наш добрый гений, ангел-хранитель. Отец перед смертью... это так не расскажешь. Я знал, что встречу вас...
Николай Иванович отодвинулся, взглянул мне в глаза, но тут же отвел их: слишком разительна была перемена, произошедшая с мальчиком за четверть века.
— Я ведь и фамилию вашу знал, но забыл. Отец называл как-то. Помню, необычная какая-то фамилия... — замялся он.
— Демилле, — сказал я против воли холодно.
— Вот-вот! — Он облегченно вздохнул. — Женя Демилле. Вот вы какой стали...
Я молча переминался с ноги на ногу. Николай Иванович выглянул из комнаты и громко позвал:
— Надя, иди сюда!
На его зов пришла небольшого роста худенькая женщина с седой головой, но глазами ясными и молодыми. Она на ходу вытирала о передник руки.
— Это Женя! — объявил ей Николай Иванович. — Тот самый, что сделал дворец!
— Да ты что... — охнула она.
По ее лицу я видел, что она не верит. Она присела перед альбомом и, быстро взглянув на фотографию, перевела взгляд на меня, стремясь отыскать в нынешнем моем облике черты того мальчика.
— А не похож вроде... — неуверенно сказала она.
— Да ведь не тот, Надюша, не тот! Вот он! — Николай Иванович ткнул в фотографию пальцем. — Вот это Женя. А то его брат.
— Да... Этот похож... — неохотно признала она. — В глазах что-то есть.
— Помнишь, отец про него рассказывал? Про вас, простите... — Николай Иванович невольно обратился ко мне с почтением. — Пока есть такие мальчики, так он говорил, я за революцию спокоен...
И тут, наконец, прорвалось напряжение, долго сдерживаемое мною. Я отвернулся к окну, смахивая ладонью слезы с глаз. Жена Николая Ивановича выскользнула из комнаты, а хозяин обнял меня сзади за плечи и прижал к себе.
— Ничего, бывает... Бывает... — повторял он.
Я присел на тахту. Николай Иванович устроился напротив меня на стуле, продолжая разглядывать с жалостью и нежностью, как блудного сына, вернувшегося в дом.
— Как видите, Николай Иванович, я нынче не совсем тот... Совсем не тот, — сказал я сухо, разводя руками. — Так что, пожалуй, мне лучше уйти.
Он поглядел на меня суровее.
— Желаю вам сохранить наилучшую память о вашем Жене, — продолжал я с горькой усмешкой. — Домик я у вас оставлю. Он вам по праву принадлежит за давностью лет... — Я поднялся с тахты.
— Здорово тебя прижало, — наконец сказал Николай Иванович.
Его трезвое «ты» остудило меня, я угрюмо замолчал, раздумывая только о том, как бы побыстрее покинуть этот дом, где слишком любили меня, чтобы можно было это вынести.
— Значит, так... — негромко, с затаенной угрозой произнес Николай Иванович. — Останешься ты здесь, никуда не пойдешь, потому что идти тебе некуда. Считай себя членом нашей семьи, поэтому церемониться друг с другом не будем. Буду держать тебя под домашним арестом...
— Вот как? — Я постарался придать голосу независимость, но вид Николая Ивановича был столь грозен, что получилось испуганно.
— ...Минимум две недели, — закончил он.
— Почему?
— Пьешь, — коротко ответил он.
— Кажется, это мое дело? Личное...
— Ошибаешься. Дело это общественное. Тебе остановка нужна, иначе расшибешься.
— Что же вы меня — запрете и свяжете?
— Ты сам себя свяжешь. Собственным словом. — Его речь становилась все жестче.
Он снял с полки футляр со спичечным домом, поставил на стол и убрал стеклянный колпак. Мое творение предстало в первозданном виде: стали различимы швы между спичками с мелкими закаменевшими капельками клея, стала видна огромная кропотливая работа, дни и месяцы моей юной жизни, вложенные когда-то в это сооружение без всякой видимой цели, с одним лишь желанием организовать кусочек пространства в соответствии со своим неосознанным идеалом.
— Дай обещание, что не выйдешь из этого дома, пока я тебе не разрешу. — Николай Иванович занес огромную свою ладонь над луковкой спичечной церкви. — Иначе раздавлю я твою игрушку, и сам ты понимаешь, что ходу назад тебе в этом случае не будет. Только туда, в пропасть...
— ...Хорошо. Я согласен. Даю слово, — сказал я, кривясь.
Он водрузил колпак на прежнее место, убрал дворец со стола.
— Вы уж извините, Евгений Викторович, что пришлось прибегнуть к сему. Вы сейчас здраво судить не можете. Вам передышка нужна, возвращение в ясное сознание. Тогда и решите сами. А сегодня я за вас решаю.
...Вот так я неожиданно для себя оказался под домашним арестом в чужом доме, то есть не совсем в чужом, в каком-то смысле даже в родном. Вечером меня познакомили с остальными членами семьи Николая Ивановича — сыновьями Алексеем и Юрием, старшеклассниками, и дочерью двадцати трех лет — той самой девочкой, которую я встречал в коляске у своего дома давным-давно. Звали ее Аля, о полном имени я не спросил. Вероятнее всего — Алевтина. Она была такого же невысокого роста, как и мать, но черты лица жестче, в этом было больше сходства с отцом, а глаза жгучие и вопрошающие.
Это ее комнатку с тахтою я занял вчера ночью, явившись нежданным гостем.
Я сразу же почувствовал в ней скрытую враждебность к себе. Когда она узнала от отца, что это я построил Дворец Коммунизма, ее глазки блеснули, прожигая меня насквозь, и она выпалила:
— Вот еще! Не могли же вы так измениться!
— Аля у нас с характером, — сказал Николай Иванович со скрытой гордостью.
Он куда-то сходил на полчаса, а вернувшись, сказал, что ему удалось решить проблему моего «карцера», как он выразился. В этом же подъезде, двумя этажами ниже, обнаружилась однокомнатная квартира без хозяев, которую я мог временно занять.
— Как это — занять? — не понял я.
— Хозяева в отъезде, просили присмотреть, — объяснил он.
— Но я не могу сейчас платить... — замялся я.
— Платить не нужно. Вы будете как бы сторожить.
— Что ж... — Я пожал плечами.
— Столоваться будете у нас. И без всяких церемоний, — сказал Николай Иванович.
— Право, мне неловко. — Я действительно почувствовал неудобство.
— Неловко штаны через голову надевать, — парировал Николай Иванович. — А между людьми все ловко, когда по-людски.
Переезд совершился быстро и деловито. Меня проводили вниз, в пустую однокомнатную квартиру. Юноши несли раскладушку с матрасом, столик и стул. Аля шествовала с пачкой чистого белья. Я нес выданные мне женою Николая Ивановича мыло и мочалку, а также кипятильник со стаканом, ложечкой и пачкою чая.
Николай Иванович заглянул ко мне, осмотрел помещение.
— Нормальная тюремная обстановка, — сказал он и ушел.
Вслед за ним снова явилась Аля. В руках у нее был футляр со спичечным домом, на котором сверху громоздились коробки спичек и баночка клея. Она поставила футляр на столик, неприязненно поглядев на меня.
— Докажите, — сказала она. — Пока не докажете — не поверю.
— Что именно? — растерялся я.
— Что это вы построили. Не могли вы такого построить! Вы же ханыга. У вас вид ханыги, — презрительно говорила она.
— Когда вы станете старше... — с горечью начал я.
— Старше?! Выйду замуж, да?.. Хлебну вашего пойла... У вас дети есть? — неожиданно спросила она.
— Сын в первом классе, — ответил я.
— Где он?
— Не знаю.
— Э-эх вы! — Она резко повернулась и быстро пошла к дверям. — Если не достроите, я его своими руками спалю! Там у вас не достроено! — заявила она, выходя.
Напоминание о Егорке окончательно добило меня. Я с ненавистью смотрел на спичечный дом. Надо же, заметила, что он не достроен... Однако почему такая зловещая темнота в окнах? В самом деле — тюрьма!
Я подошел к окну и увидел прямо перед собою невыразительную кирпичную стену, тускло освещенную откуда-то снизу. Она располагалась буквально в двух метрах от окна.
Это было похуже тюремной решетки.