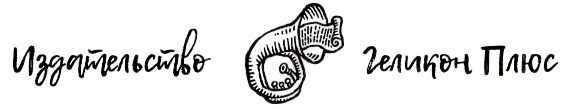Александр Житинский "Потерянный дом, или Разговоры с Милордом (42)"

| Автор | Александр Житинский |
| Изд-во | Геликон Плюс |
Глава 42
Вагоновожатый
Какое мучительное занятие — вспоминать пальцами собственную юность! Я уже испытал его однажды, когда после двадцатилетнего перерыва уселся за фортепиано. Это случилось лет семь назад, после покупки пианино фабрики «Красный Октябрь». Я прикоснулся пальцами к клавишам и начал играть этюды Черни по мышечной памяти. Странное и горькое чувство! Будто играешь не ты, а кто-то другой внутри тебя, проснувшийся вдруг и вспоминающий мимолетный сон. Каждый звук неожидан, каждый аккорд удивителен! Пальцы сами выстраиваются в нужную комбинацию и нажимают на клавиши с ужасом, готовые отпрянуть, услышав фальшь. Но аккорд взят правильно, он совпадает с оттиском, оставшимся в памяти, и ты играешь дальше онемевшими пальцами, пока не наткнешься вдруг на провал. Приходится начинать сначала и снова подкрадываться к выпавшему из памяти месту, пока на пути не обнаруживается новый провал, и тут пальцы отказываются вспоминать — пробудившийся навык умирает навеки.
Больше я не садился за фортепиано.
Точно такое же ощушение я испытал, приступая к достройке спичечного дома. Спички выпадали из огрубевших пальцев, не желали вставать на нужное место... Вскоре руки были в клею, первая опора для задуманной когда-то террасы поехала вбок... Я оторвал ее и начал сначала.
Навык возвращался постепенно, и все равно мне не нравилась моя работа: она была грубее и суше юношеских опытов. Она была фальшива.
Очень раздражал электрический свет, которым приходилось пользоваться с утра до вечера из-за постоянной темноты в окнах. Я не переставал клясть в душе архитекторов и строителей, установивших дом в столь неудобном месте. Судя по планировке квартир и лестничных клеток, дом принадлежал к тому же типовому проекту, что и наш кооперативный дом на улице Кооперации, следовательно, был выстроен лет десять-двенадцать назад. Вероятно, имели в виду, что старый дом, впритык к которому поставили этот, будет снесен, чтобы построенное здание получило доступ к свету. Но... признаков сноса соседнего дома пока не видно. Могло произойти все, что угодно, у нас это не редкость: урезали фонды на капремонт, перенесли в план следующих пятилеток или же попросту забыли.
Николая Ивановича и его дочь, с которыми я регулярно общался, этот вопрос почему-то не занимал.
— У нас в Петербурге, как ни крути, светло не будет, — сказал Николай Иванович.
Аля осуществляла надзор за строительством спичечного дома. Она уже уверилась в том, что романтический отрок, задумавший Дворец Коммунизма, и опустившийся тип, подобранный отцом на улице, — одно и то же лицо. Тем строже и ревностнее стала она относиться к моему занятию и даже помогала мне временами, обрезая серу со спичек на железный противень, вынутый из газовой плиты. Там уже вырос рассыпчатый коричневый холмик.
Обычно Аля была молчалива и деятельна. Она появлялась всегда неожиданно, наводила порядок в кухне, ставила чайник, придирчиво рассматривала то, что успел я сделать в ее отсутствие, и принималась за спички. Время от времени она поднимала голову и замирала, как бы прислушиваясь к чему-то. Потом она заставляла себя вернуться к работе, но порой, будто вспомнив о неотложном деле, быстро собиралась и исчезала. Когда она находилась рядом, я постоянно чувствовал некое напряжение, исходившее от нее, смутное беспокойство, нервность.
По утрам я пил чай, обед мне доставляли в судках Аля или кто-нибудь из братьев, ужинать я приходил в семью Николая Ивановича. Разумеется, я испытывал крайнюю неловкость. Мысль о том, что я взгромоздился на шею этой работящей семье, не давала мне покоя. Я попытался поговорить с Николаем Ивановичем с глазу на глаз. Я сказал ему, что у меня сейчас нет денег и возможности заработать их, потому возможны только два варианта: либо я живу в долг, если Николай Иванович настаивает на моем пленении, и возвращаю ему прожитую мною сумму, как только смогу это сделать, либо я вынужден покинуть дом, нарушив данное мною слово.
— Оставьте интеллигентскую щепетильность, — сказал он.
— Это не щепетильность, Николай Иванович.
— А что же?
— Если хотите, попытка сохранить достоинство.
— Вы бы раньше о достоинстве думали, — упрекнул он.
— Но я привык зарабатывать себе на жизнь.
— О заработке подумаем. Но потом. Сначала оклемайтесь... Я прошел через черное пьянство после лагерей и знаю — ясное сознание возвращается не сразу.
Я уже немного знал о прошлом Николая Ивановича, но больше меня занимало настоящее. Чувствовалось, что поступками и речами его руководит какая-то высшая идея. Уже в первые дни я понял, что не я один хожу у него в подопечных. Правда, другие были значительно моложе. По вечерам в квартире Николая Ивановича часто появлялись юноши того же возраста, что его сыновья. Это были члены исторического кружка, который вел Николай Иванович в подростковом клубе, находившемся, как я понял, в этом же доме. Мой спаситель имел незаконченное историческое образование.
Но не только история интересовала юношей. Обычно они приходили по одному, по два вечерами и уединялись с хозяином минут на десять. Я в это время смотрел телевизор в компании жены Николая Ивановича. Затем юноши исчезали, а Николай Иванович возвращался к нам, чем-то довольный.
Наконец я не выдержал и спросил:
— Ваши юноши так увлечены историей?
Николай Иванович внимательно взглянул на меня, помолчал, затем поднялся с места и принес толстую тетрадь большого формата, на обложке которой красными печатными буквами было выведено всего лишь одно слово: «Несправедливости».
— Они увлечены будущим. Поглядите, — сказал он.
Я раскрыл тетрадь. Она была заполнена короткими записями, сделанными неустоявшимися, корявыми, юношескими почерками. Огромный реестр несправедливостей жизни, подмеченных молодыми глазами.
«Комитет комсомола нашей школы отрапортовал райкому о проведении дня ударного труда на стройке. Мы туда пошли, но нас прогнали, сказали, что работы сегодня нет. Крылов».
«Мой одноклассник Фомин хвалился, что мать даст взятку в университете, чтобы его приняли. Он знает кому, но фамилии не говорит. Братушкин».
«Наш военрук сказал, что „Битлз“ и „Роллинг стоунз“ — это гадость и что они — агенты ЦРУ. А он их не слышал никогда! Тюлень, он же Самойлов Гена».
«Продавец в овощном на Большом проспекте вчера грузил в свои „Жигули“ японский видеомагнитофон. Я сам видел. Крылов».
«Нашего соседа побили в милиции. Он стоял со своим корешем, тот был выпивши. Подъехала машина и забрала их обоих. Он стал говорить, что он не пьяный, чтобы отпустили. Тогда они стали его бить в отделении. Тюлень».
«Отец сказал, что можно отвертеться, чтобы не послали в Афганистан. Нужно дать на лапу в военкомате. А кто не может дать на лапу — тому как?! Братушкин».
«К отцу на завод приезжало начальство из Москвы. Они за день покрасили все заборы, а в столовую навезли сосисок и копченой колбасы. Потом они их возили в сауну и там пили водку. Одного в „Стрелу“ тащили на руках. Олег Карапетян».
— Зачем вы это делаете? — спросил я, закрывая тетрадь.
— Когда-нибудь мы предъявим этот счет, — сказал Николай Иванович.
— Кто — «мы»?
— Мы все. И вы тоже, если... — Он не договорил.
Я понял, что он опять намекает на мое перевоспитание. Поздно, Николай Иванович! И потом — мне не надо духовных пастырей. Довольно я на них насмотрелся.
— А что касается собственно истории, то она интересует этих мальчиков постольку, поскольку служит руководством к действию. Вы Лаврова читали? — вдруг спросил он.
— Нет. Кто это?
— Петр Лаврович Лавров, социалист, философ... — Николай Иванович вновь удалился и вернулся с книгой в руках.
— В сорок девятом году, в университете, я занимался историей кружка «лавристов», куда входил мой дед. Ну, и дозанимался... Получил десять лет. Почитайте «Исторические письма». Весьма актуальное чтение! — Он протянул мне книгу. — Почитайте о действии личностей. Или о цене прогресса...
— Цена прогресса? — Меня это заинтересовало.
Беседуя с Николаем Ивановичем, я временами изумлялся тому, что этот человек не занимает университетской кафедры, а водит трамвай тридцать седьмого маршрута из Новой Деревни на Васильевский остров, объявляет остановки и ругается в депо со слесарями по поводу неисправности вагона.
— В этой книге, — Николай Иванович указал на том в моих руках, — Петр Лаврович говорит, что человечество платит огромную цену в виде жизненных тягот и лишений за то, чтобы отдельные редкие его представители могли стать цивилизованными людьми, то есть овладеть наукой и культурой. За что же такая цена заплачена? Только ли за то, чтобы избранные могли наслаждаться духовными богатствами? Нет, дорогой мой, на этих людях лежит ответственность за прогресс общества. И на вас, в частности, тоже лежит эта ответственность...
Николай Иванович раскрыл том Лаврова.
— Послушайте. «Если личность, сознающая условия прогресса, ждет сложа руки, чтобы он осуществился сам собой, без всяких усилий с ее стороны, то она есть худший враг прогресса, самое гадкое препятствие на пути к нему. Всем жалобщикам о разврате времени, о ничтожности людей, о застое и ретроградном движении следует поставить вопрос: а вы сами, зрячие среди слепых, здоровые среди больных, что вы сделали, чтобы содействовать прогрессу?» Что скажете на это?
— Но что я могу сделать один?
— Почему вы считаете, что вы один? У вас самомнение, Евгений Викторович...
— Скажите честно, Николай Иванович, на вас ведь как на белую ворону смотрят в вашем парке? — спросил я.
— Хуже. Как на красную ворону, — рассмеялся он.
Я вернулся к себе почему-то расстроенный. Клеить игрушечный дом не хотелось, казалось пустой забавой. Я расстелил простыню и улегся на раскладушку с «Историческими письмами».
Где-то за стеною нестройно затянули «Не уезжай ты, мой голубчик...» визгливыми женскими голосами, к которым невпопад примешивались пьяные мужские. Звякали бутылки. Донеслась ругань.
Я читал «Исторические письма» Петра Лавровича, чувствуя, как во мне накапливается раздражение — на этот дом, на голоса за стенкой, на жесткую раскладушку, на Петра Лавровича, наконец, который занудно толковал о «критически мыслящих и энергически желающих» личностях. Где они, эти личности? Где прогресс? Бессильное чувство, похожее на то, что я испытал когда-то весною перед разверстой ямой, на месте которой еще утром стоял мой дом, завладело мною под аккомпанемент пьяного хора. Вспоминались слова Николая Ивановича об интеллигентах, отдавших себя революции... А мы устранились, видите ли... Но позвольте, Николай Иванович, сто лет назад интеллигенты, дворяне, разночинцы видели вокруг себя действительно обездоленную и забитую народную массу. А что видим мы? За кого и за что можно бороться нам, если обездоленными остались мы сами — в духовном смысле?
За стеной грянули «По Дону гуляет...».
Я погасил лампу.
Кирпичная стена за окном, подсвеченная снизу далеким светом, бугрилась тенями и щербинами, приближалась к стеклу, наваливалась на меня, грозя раздавить, а рядом на столике нежным хрупким сиянием светился спичечный Дворец Коммунизма.