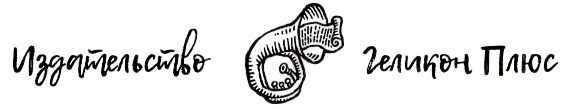Александр Житинский "Страсти по Прометею (9)
"
| Автор | Александр Житинский |
| Изд-во | Лениздат |
Человек не сразу стал венцом природы. Сначала он был обыкновенным неразвитым духовно животным. Об этом свидетельствуют раскопки древних черепов. Кроме того, некоторые хорошо сохранившиеся индивидуумы у нас перед глазами. По их поведению можно с уверенностью судить о темном прошлом человечества.
Господи, какие встречаются кретины! Сердце плачет.
Самое удивительное, что они тоже полагают, будто мыслят. Они убеждены, что имеют отношение к таким вещам, как культура или наука. Когда по радио произносится устойчивое словосочетание «прогрессивное человечество», эти типы без зазрения совести думают, что разговор идет о них. В обезьяньем питомнике они снисходительно смотрят на обезьян, хотя у средней обезьяны чувств и мыслей хватило бы на десятерых подобных типов. Мозги у них твердые и гладкие, как биллиардный шар. Но мозгов, к сожалению, снаружи не видно. Поэтому определить кретина можно лишь по косвенным признакам. По глазам или по походке. Глаза у них немигающие, сверлящие, причем сразу видно, что ваша душа у них как на ладони. Так они полагают. Ходят они очень прочно и старательно, с видимой гордостью. Им приятно ходить на двух ногах.
Да, самое главное! Они все знают. Нет такого вопроса, по которому у них не было бы собственного мнения. Говорить с таким человеком — все равно что высекать на мраморной плите таблицу умножения. Трудно и бесполезно.
Все это я говорю к тому, что после моих последних передач студию завалили письмами. Письма про археологию делились на две категории. В одних авторы излагали свой взгляд на историю, а в других — на Мурзалева. И там и там господствовали дилетантизм и явное недоброжелательство. Все авторы были уверены, что они знают археологию, как собственную жену.
Не поздоровилось и Максиму Трофимовичу. В письмах, посвященных ему, указывалось, что Прометей для передачи по нейрофизиологии был подобран крайне неудачно. Далее следовала развернутая характеристика Ажуева. Будто он подписывает все научные работы, выходящие на кафедре, и таким образом успевает разрешить в год пятьдесят-шестьдесят научных проблем. Это многовато даже для Прометея.
Дальше — больше. Максим Трофимович подбирает аспиранток не по деловым признакам, а по каким-то другим. На некоторых аспирантках он время от времени женится. Из писем следовало, что за трехгодичный срок аспирантуры профессор успевал создать и разрушить семью. В настоящий момент он был женат в четвертый раз.
Короче говоря, мы перепутали. Ажуев был не Прометеем, а Дон Жуаном.
Про письма мне под строжайшим секретом рассказала Морошкина. Только она успела это сделать, как меня вызвал главный редактор.
— Петр Николаевич, — сказал он, сверкая золотой оправой очков. — В целом мы довольны вашей деятельностью. Мы даже считаем, что открыли вас как журналиста...
«Кто бы меня теперь закрыл?» — грустно прокомментировал я про себя.
— ...Однако не следует забывать об ответственности перед зрителем. Как вы подбираете выступающих?
— Строгой закономерности нет, — вяло сказал я. — Когда как.
— Не всякий доктор может служить примером, — изрек Севро.
Разговор он закончил тем, что собственноручно предложил мне следующего Прометея. Я не хотел брать, но пришлось. Соответственно и тема передачи определилась отчетливо. Это была кибернетика. А Прометеем был назван Тарас Карпович Наливайло, член-корреспондент и лауреат. Человек очень большого полета. Дядя русской кибернетики.
Прежде всего я решил познакомиться с научными трудами Тараса Карповича. Я пошел в библиотеку, и мне выдали труды Наливайло. Среди них был один учебник 1931-го года издания. Он относился к науке о подъемно-транспортных механизмах. Лифты, эскалаторы и тому подобное. Кибернетикой там не пахло. Остальные работы были в виде трактатов и статей в различных журналах. Я расположил их хронологически и стал следить за эволюцией научной мысли моего Прометея.
Статьи все были на научно-философские темы. Они касались кибернетики. В первых своих работах Тарас Карпович брал это слово в кавычки. Еще он употреблял сочетание «так называемая кибернетика». По его словам, такой науки не было. Тем не менее, хотя ее и не было, Тарас Карпович методично с нею боролся на протяжении ряда лет. Это был первый период становления русской кибернетики. За эти годы Наливайло привык к ней и осторожно раскавычил. Лишенная кавычек кибернетика перестала выглядеть пугалом. Наоборот, она сама теперь нуждалась в защите. И Наливайло перенес огонь на противников этой науки. Теперь он громил некоторых горе-философов, проглядевших в кибернетике рациональное зерно. Ну, тех, которые не успели вовремя опустить кавычек. В результате в кавычки попали они сами. Благодарная кибернетика, встав на ноги, обласкала Тараса Карповича. Он стал начальником крупного конструкторского бюро. Это бюро проектировало подъемно-транспортные машины, но уже с кибернетикой. Кибернетика проникла в лифты. Попробуйте сейчас открыть дверцы движущегося лифта между этажами. Лифт наверняка остановится. Это и есть кибернетика.
Про те лифты, у которых двери сами открываются и закрываются, я вообще не говорю. Благодаря им Наливайло вплотную подошел к дверям Академии наук.
Я подковался теоретически и поехал на встречу с Тарасом Карповичем. Его КБ помещалось в центре города, в одном из старых зданий. Раньше там был пансион для благородных девиц.
В бюро пропусков со мной долго возились. Выписали несколько бумажек, часть из которых я тут же возвратил вахтерше. Та благополучно наколола их на спицу, и я вошел внутрь.
— Куда же ты пошел? — изумилась вахтерша.
— К начальнику, — сказал я, обернувшись.
— Это понятно, что к начальнику. А как туда идти, знаешь?
— Спрошу, — пожал я плечами.
Вахтерша засмеялась длительным смехом.
— Ну, спроси, спроси! — сказала она.
— А как туда пройти? — заволновался я.
— Вот видишь! — торжествующе сказала вахтерша. — А я не знаю! Давеча ходили через подвал, а нынче там ремонт. Теперь через чердак ходют, но там смотри в оба. Не то заблудишься.
Я пошел по лестнице вверх. На чердаке размещалась лаборатория № 17. Там мне сказали, чтобы я спустился ниже, прошел по коридору, отсчитав восемь дверей, и вошел в девятую. Я так и поступил.
За девятой дверью была десятая дверь. Потом я прекратил их считать. Встречавшиеся люди хорошо знали лишь окрестности своих лабораторий, а дальше путались. Но общее направление они показывали одинаково. Мне следовало идти все время вниз и на юго-запад. То и дело встречались рабочие, которые перегораживали комнаты, воздвигали посреди коридоров стены и прорубали окна на улицу.
Наконец мне попался человек, который час назад был у Тараса Карповича и еще помнил дорогу. Он меня проводил. Дверь кабинета была рядом с временной деревянной стенкой, перегораживающей коридор.
— Когда будете уходить, — шепнул сотрудник, — отодвиньте эту доску и пролезайте. Так проще. Там сразу выход.
Я поблагодарил и поинтересовался у него человеческими качествами Наливайло. Хотя бы самое главное, конспективно. Это мне было нужно для предстоящего разговора.
— Как вам сказать? — задумался мой проводник. — Старый перпетуум... У нас его называют так. Любя, конечно.
— Это как же перевести? — вслух подумал я. — Перпетуум мобиле — это вечный двигатель. Значит, перпетуум — просто вечный...
— Ну да. Старый... Вечный... Так и переводится, — сказал сотрудник, делая попытку уйти.
— А двигатель?
— При чем здесь двигатель? Как хотите, так и переводите! — рассердился мой проводник и удалился по коридору.
Я вошел в приемную, где сидела секретарша. Она сообщила, что Тарас Карпович меня ждет. Я постучал, и перед моим носом загорелась табличка «Войдите!». Здесь все было пропитано кибернетикой.
Тарас Карпович сидел в кресле из какого-то материала, напоминавшего мрамор. Только, вероятно, помягче. Наливайло был румяным стариком с седыми усами. Его розовые щечки болтались по обеим сторонам лица, как серьги. Возраст с трудом поддавался определению. Но мне показалось, что Перпетуум вполне мог быть участником русско-японской войны.
Мы разговорились. Правда, это не то слово. После того, как я назвал себя, Наливайло не дал мне произнести ни звука. Он открыл рот и принялся без остановки скрипеть и хрипеть что-то про кибернетику. Из всего потока слов я улавливал только несколько. «Милостивый государь», «помилуйте-с» и «обратная связь». Наконец мне удалось приспособиться к дикции Наливайло, и я установил, что Перпетуум добрался уже до начала нашего века. Он обнаружил там корни отечественной кибернетики. Потом он, кажется, спустился еще глубже, потому что в его речи стали мелькать незнакомые мне церковнославянские обороты. Внезапно Тарас Карпович откинулся на спинку кресла и продребезжал старческим тенором:
— А без меня, а без меня здесь ничего бы не стояло. Здесь ничего бы не стояло, когда бы не было меня!..
Песню я узнал. Ее пел когда-то Марк Бернес. Далее Наливайло задал мне какой-то вопрос. Это я определил по интонации. Я на всякий случай кивнул. Тарас Карпович радостно заулыбался и вызвал секретаршу. Он сказал ей несколько слов, и секретарша неприязненно на меня посмотрела.
— Пойдемте, — сказала она.
— Куда? — спросил я.
— На полигон. Вы же сами хотели...
— На какой полигон?
Перпетуум обеспокоенно что-то прошамкал и сделал знак секретарше, чтобы та его подняла. Секретарша подошла к Тарасу Карповичу и вынула его из кресла. Я понял, что старик собрался идти с нами на полигон. Поддерживая Наливайло, мы пошли по коридорам. Завидев наше приближение, сотрудники прятались по углам. «Неужели они его так боятся?» — подумал я с уважением.
Мы дошли до двери, на которой висела табличка: «Испытательный полигон. Посторонним вход воспрещен!» За дверью находились лифты. Их было три штуки. Все разные. Это были детища Старого Перпетуума.
Старик подошел к первой двери, сложил губы трубочкой и свистнул. Вернее, произнес шипящий звук. Лифт открылся.
— Ну-с, милостивый государь, — сказал Наливайло, делая приглашающий жест. Секретарша скривилась и побледнела. Мы втроем вошли в лифт. Наливайло произнес подряд семь шипящих, дверцы закрылись, и мы поехали.
— Управляется голосом, — сказал Наливайло, показывая, что внутри кабины кнопок нет. — Стой! — воскликнул он.
Лифт не подчинился приказу.
— Тарас Карпович, это облагороженная модель, — напомнила секретарша.
— Пардон, — сказал старик. — Будьте добры, остановитесь! — обратился он к лифту. Лифт остановился.
— На каком принципе он работает? — спросил я.
— Система человек—машина, — туманно объяснил Прометей.
— Как это?
— Поехали дальше, — скомандовал Наливайло.
— Тарас Карпович, сейчас предохранитель сменю, — послышался голос из динамика.
— Быстрее, быстрее! — сказал Наливайло. — Седьмой этаж!
— Я помню, — сказал голос.
Через минуту лифт дернулся, и мы поехали на седьмой этаж. Прометей вызвал соседний лифт, который приехал очень быстро. Он подкатил с ревом, напоминающим шум реактивного двигателя. Секретарша умоляюще посмотрела на Наливайло и сказала:
— Тарас Карпович! Вам же врачи запретили!
— Ничего, ничего... Скоростной лифт с автоматическим спасателем, — объявил Прометей, и мы вошли.
Секретарша кусала губы и вздрагивала. Перпетуум нажал кнопку. Лифт взвыл и провалился под нами вниз. Перпетуум положил палец на другую кнопку с надписью «Обрыв троса».
— Сейчас оборвется трос, — предупредил Наливайло и нажал кнопку. Трос над крышей кабины лопнул с ужасающим треском. Мы полетели вниз. В кабине, в полном соответствии с законами физики, наступило состояние невесомости. Секретарша с перекошенным лицом ползла по стенке кабины вверх. Прометей мягко парил в десяти сантиметрах от пола.
«Вот и все», — флегматично подумал я. В сущности, мне было уже наплевать. Внезапно что-то завыло, лифт стал притормаживать, и почти сейчас же раздался всплеск. Судя по всему, кабина упала в бассейн с водой. Слава Богу, она была герметичной. Мы немного поплавали, а потом нас подтянули вверх и выпустили. Наливайло, сияя от гордости, объяснил мне принцип действия. Если обрывается трос, включаются тормозные реактивные установки, которые сдерживают падение. Демпфером служит небольшой бассейн в подвале, куда лифт падает.
Вообще, если такой лифт установить в Парке культуры, желающих будет хоть отбавляй. В жилых домах — не знаю. Дороговат он все же.
Насладившись кибернетикой, мы пошли обратно в кабинет. Мне уже хотелось уйти, но Наливайло усадил меня напротив и говорил еще битых четыре часа. Можно было подумать, что у него в запасе вечность. Теперь я понял, почему разбегались сотрудники. Они боялись наткнуться на разговор со своим начальником.
Я от нечего делать конспектировал. В результате получился почти готовый сценарий. Его оставалось немного доработать в смысле уточнения роли Наливайло в становлении кибернетики. Старик немного переборщил. По его словам выходило, что он даже и не дядя русской кибернетики, а прямо отец родной. Это не соответствовало исторической правде.
Наконец Перпетуум устал. Он периодически погружался в сон, а я погружался в раздумья. Я думал, как мне незаметно уйти. Но только я поднимался с места и делал на цыпочках шаг к двери, Перпетуум просыпался и говорил:
— Так на чем же я остановился, милостивый государь?
И я милостиво напоминал ему, в каком месте он кончил бредить. Когда Перпетуум протянул мне руку на прощанье, я так тряхнул ее, что вырвал старика из кресла. Очень уж он был легкий. Наливайло проводил меня до стенки и даже сам приподнял доску, чтобы я пролез. Звал еще. Обещал многое рассказать. Я думал, что у меня голова не пролезет в дырку, потому что она распухла от обилия информации. Но ничего, пролезла.
Я ушел с твердой решимостью никогда больше не видеть Старого Перпетуума. И мне удалось это сделать. Я сдал сценарий и навел Дарова на Наливайло. Не знаю, как они там столковались. Передача прошла без моего участия. Я уехал за город, чтобы ее не смотреть.
Нервишки у меня стали пошаливать. Слово «Прометей» вызывало гримасы на моем лице. Кошек я боялся. В лифт входить более не осмеливался. На студию ездил с величайшей неохотой.
Не так просто — отдавать себя людям. Особенно таким, как Наливайло или монстр Валентин Эдуардович. Даже гонорары уже не радовали.